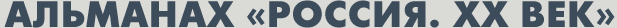
Архив Александра Н. Яковлева
«РЕЗОЛЮЦИЯ Н.С. ХРУЩЕВА ПРОИЗВЕЛА МАГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ НА КГБ, ВОЕННУЮ ПРОКУРАТУРУ… АППАРАТ КПК ПРИ ЦК КПСС»: За кулисами реабилитационного процесса. Документы о ленинградских ученых, репрессированных в годы Великой Отечественной войны. 1957–1970 гг.
Документ № 8
|
| Члену Президиума ЦК КПСС тов. Н.М. Швернику |
|
|
|
|
| Доктор технических наук |
|
| Профессор ЛЭТИ им. В.И. Ленина |
|
| Владимир Андреевич Тимофеев |
|
16 сентября 1957 года я был вызван в Партийную комиссию к тов. Ганину, который мне предложил изложить сжато некоторые свидетельствующие о нарушении законности факты, имевшие место с момента моего ареста 9 марта 1942 года, в период следствия и на самом судоговорении 23–25 апреля 1942 года, т.е. на заседаниях Военного трибунала войск НКВД Ленинградского военного округа, приговорившего меня, да и всю судившуюся со мною остальную группу профессоров и преподавателей ЛЭТИ, ЛГУ и Горного института к расстрелу, замененному через 53 дня десятью годами заключения в ИТЛ без поражения в правах.
Прежде чем приступить к выполнению этого поручения считаю своим долгом сообщить, что по существу дела в том материале (определении № 752-11 Военного трибунала ЛВО от 20 декабря 1954 г.), который мне был оглашен при моей реабилитации в г. Норильске только в феврале 1955 года, содержатся весьма ярко и полно, несмотря на краткость изложения, все те явные правонарушения законности, которые имели место и в моем деле, и в деле всех ныне реабилитированных научных работников.
Кроме того, при возвращении моем из ссылки в конце марта 1955 г. я должен был участвовать в качестве свидетеля обвинения бывшего нач. следственного отдела Ленинградского отделения НКВД Николая Федоровича Кружкова, причем я дал подробные показания следователю по особо важным делам подполковнику т. Лаврентьеву и затем в Ленинграде в октябре того же года выступал на суде в продолжение полутора-двух часов в качестве свидетеля на том заседании Таллиннского военно-морского трибунала1, который рассматривал дело Кружкова. На этих же заседаниях я встретился с оставшимися в живых научными работниками, судившимися вместе со мной, которые тоже были вызваны свидетелями и также давали подробные показания о всех тех приемах и методах, применявшихся Н.Ф. Кружковым и ему подчиненными следователями, чтобы добиться нашего осуждения.
Следовательно, в делах соответствующих юридических органов имеется готовый и вполне достоверный материал, достаточно ярко описывающий ту обстановку унижений, насилия и принуждения, погубивших и меня, и моих товарищей по несчастью.
Все же, как ни тяжело мне через 15 лет восстанавливать в своей памяти и воображении то, что я всеми силами воли старался и стараюсь забыть (т.к. не знаю, как для других, но для меня ясно, что продолжать работать и даже просто жить, возможно только при отсутствии воспоминаний о тринадцати годах заключения и ссылки, да и первых месяцах после реабилитации) — если это необходимо для Родины и Партии, я принужден пересилить себя и еще раз попытаться восстановить в памяти это тяжелое прошлое.
К моменту моего ареста 9 марта 1942 года, т.е. на седьмом месяце блокады, я был истощен и измучен и физически, и морально (я весил тогда 42 кг вместо 90, что при моем росте является уже смертельной потерей веса по индексу Бушара) и, кроме того, в этот день отвез в морг труп своей матери, скончавшейся в моем кабинете от голода, и потому, откровенно говоря, ожидал смерти, но не таким, конечно, путем.
Первое, с моей точки зрения, нарушение законности, которое, как оказалось, возымело тогда большое влияние на меня в процессе предварительного следствия, заключалось в том, что сотрудники НКВД после обыска всей моей квартиры, продолжавшегося с 17 до 24 часов, опечатали не только мой кабинет, но и пустую спальню, где лежали последние дрова, так что жена моя и двое маленьких детей (сын 8 лет и дочь 4 лет) остались без доступа к топливу.
Через 15–20 минут по доставлении меня во внутреннюю тюрьму НКВД (ул. Воинова) я был вызван еще из бокса на первый допрос к следователю Михаилу Филатовичу Рябову (около половины второго утра), и с этого момента начались непрерывные допросы, т.е. вызовы иногда доходили до 14 раз в ночь. При этом днем спать нельзя было даже сидя, т.к. дежурный через волчек2 примерно через пять-десять минут, а иногда и чаще, следил внимательно за внутренностью камеры и состоянием заключенного. При этом допросы в первый период следствия велись стоя, причем площадная ругань, крик и угрозы (не только по моему адресу, но и по отношению моей семьи и детей) перемежались с засыпанием следователя за столом, а я должен был продолжать стоять. Наибольшая стойка продолжалась свыше 7 часов.
Применялся днем, например, и такой прием: после такого допроса сам М.Ф. Рябов заводил меня в «чужую» пустую и притом холодную камеру, где и койка, и сидение перед столиком были примкнуты к стене так, что сидеть было не на чем и, кроме того, делалось это всегда в момент раздачи пищи или хлеба по камерам, так что по возвращении в камеру было чрезвычайно трудно, а иногда и невозможно получить следуемое. Вернее, это зависело уже от добросердечия корпусного надзирателя, среди которых попадались иногда и порядочные люди. Справедливость требует указать, что прямого «физического воздействия» (как это именовалось на своеобразном техническом языке следственного персонала того времени) — т.е., говоря попросту, избиения, ко мне применено не было, хотя подготовка к этому имела место в иные моменты: замахивание кулаком, хождение вокруг меня с угрожающими жестами и т.п. Но не могу скрыть, с другой стороны, что при проходе по этому громадному зданию, я слышал из-за дверей следственных кабинетов, а иногда и камер, кроме выкриков следователей (их всегда можно было узнать), и заглушенные стоны.
Главным же средством было описание того, «что мы из вас сделаем в свое время — сейчас вы молчите, тогда силенок не хватит». (Здесь я опускаю прилагательные и определения, не принятые к печати и письму.) Я объясняю эту «снисходительность» двумя соображениями: очевидно, чувствовалось им, что я твердо решил (как я ни был слаб физически тогда) при первом же прикосновении вцепиться ему в горло с тем, чтобы погибнуть в драке, что не представляло большого интереса для него, хоть он и был сильнее и выше меня ростом.
Во-вторых, ему было важно не лишиться источника следственного материала.
Кроме того, я знал, что при «применении методов физического воздействия», по крайней мере в первый раз, участвуют всегда двое, так что видя его одного, был относительно спокоен, хотя, оставаясь один в камере, мучительно придумывал способы самоубийства.
Я его и придумал к 20–22 марта, но в этот день и случилось вмешательство Н.Ф. Кружкова, который повернул дело в совершенно иную плоскость и, надо сказать, гораздо проще и удачнее. Когда М.Ф. Рябов на отрицание моей виновности разразился много более громким, чем обычно, криком и руганью и нарочито громко начал стучать по столу (явно с целью сигнализации), на это через несколько секунд открылась дверь и появился следователь Н.Ф. Кружков (как я узнал впоследствии). При этом мне удалось встать так, чтобы я мог схватить графин, т.к. почувствовал, что приближается «новая фаза следствия», более грозного характера. Но я обманулся, и был обманут очень простым способом. Вошедший весьма участливым тоном, резко контрастировавшим со всем предыдущим, начал меня успокаивать (хотя по существу следовало бы успокаивать своего сотрудника) и уговаривать, переведя разговор на мою семью и детей. Когда я начал о них ему рассказывать и дошел до того, что я не знаю, может быть, они и замерзнут сейчас, т.к. дрова в спальне опечатаны, то он с очень участливым видом сказал: «Так в чем же дело, В[ладимир] А[ндреевич], одно только слово, и мы распечатаем немедленно эту комнату, и все будет хорошо». Короткая борьба внутри меня кончилась просто: «И так и этак — смерть, но в одном случае моя смерть, может быть, спасет им жизнь». Вот почему я и признал себя виновным.
В дальнейшем, после очных ставок, Н.Ф. Кружков расспрашивал меня о моей библиотеке и моих научных работах, законченных, но не опубликованных, и предложил мне бумагу и чернила для научной работы, за что я был ему тогда весьма благодарен […]3
Через тринадцать лет я узнал от жены, что он явился на квартиру за этими работами, объяснив, что я в тюрьме чувствую себя хорошо и даже решил заняться научной деятельностью. Между тем ни я этих работ не получил, ни в архиве тюрьмы их не оказалось, и до сего времени, несмотря на мои неоднократные хлопоты и обращения в УКГБ ЛО, я не могу получить этих научных трудов общим объемом около 120 авторских листов […]
Среди прочих фактов, свидетельствующих об умышленном нарушении законности в моем деле, должен указать и на обстановку самого «процесса» — т.е. судоговорения и заседаний 23–25 апреля 1942 г. Военного трибунала войск НКВД ЛВО.
Заканчивая дело, мой следователь М.Ф. Рябов весьма настойчиво предупредил меня, что он будет присутствовать на суде при моем выступлении и показаниях для того, чтобы я не вздумал отказаться от своих показаний, что им и было выполнено. Как он, так и Кружков присутствовал в зале заседаний с этой целью своеобразного, совершенно противозаконного контроля. Я очень хорошо помню, что, закончив свои показания, я сел на диван рядом с М.Ф. Рябовым и, встретив его взгляд, улыбнулся и прошептал: «Ну как, Вы довольны теперь?»
На что он так же с улыбкой кивнул мне молча.
Таким образом, выхода для меня не было и на суде.
По мере того как я пишу эти строки передо мной всплывают и другие воспоминания о фактах беззаконий — достаточно вспомнить обстановку отправления нас в июне 1942 г. на этап, где при обыске около тысячи заключенных конвойным персоналом шел совершенно беззастенчивый грабеж с попустительства и с ведома начальника конвоя, но я полагаю, что и этого достаточно.
Доктор технических наук
Профессор В. Тимофеев
РГАСПИ. Ф. 589. Оп. 3. Д. 6726. Т. 3. Л. 99–105. Подлинник. Автограф.
Назад
 Интернет-магазин
Интернет-магазин  Корзина
Корзина 

